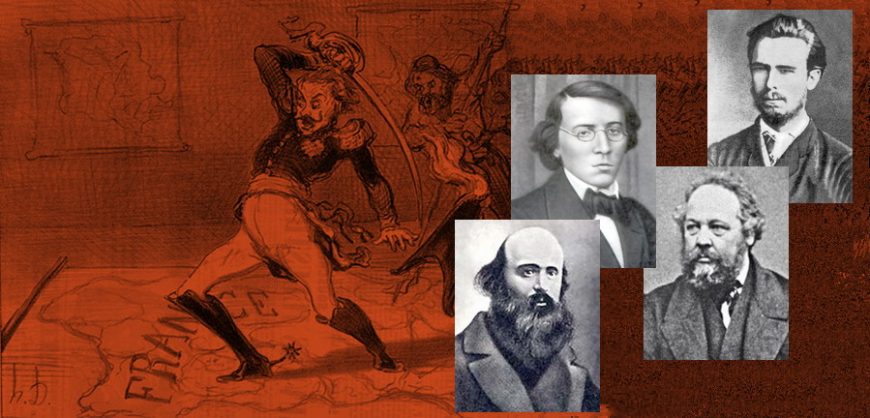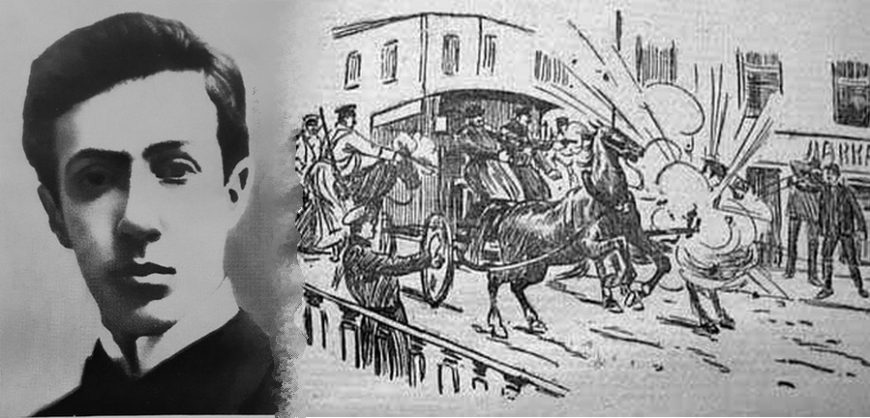26 марта 1848 года царь Николай I издал манифест «Россия, бастион Европы, не поддаётся революционным влияниям». Подвигла его на это начавшаяся в Европе революционная Весна народов.
Восстание началось на Сицилии, перекинулось во Францию, Италию, захватило Германию и Австро-Венгрию. Но Николаю хватило для волнения уже одной революции во Франции. Он считал Луи-Филиппа узурпатором, но факт свержения хоть и незаконного, но всё-таки монарха внушал ему вполне обоснованные опасения. Да что там опасения. Он просто взбесился от страха.
Результатом этого бесования и стал манифест.
«Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает в безумии своём и нашей, богом нам вверенной России, ― говорилось в манифесте. ― Но да не будет так. По заветному примеру православных наших предков, призвав на помощь бога всемогущего, мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали, и, не щадя себя, будем в неразрывном союзе со святою нашею Русью защищать честь имени русского и неприкосновенность пределов наших».
Какие такие «наши» пределы в манифесте сказано не было. Но понимать, вероятно, следовало что Париж «наш» и Вена тоже «наша». Как и Будапешт, и всё-всё-всё, что царю известно из европейской географии. А известно ему было немало, поскольку русские войска во время войн против республиканской Франции и её союзников много где побывали. Хотя, конечно, не сравнить с Советами и даже с путинскими оккупантами и пригожинскими наёмниками. Ну так ведь и время было другое ― тогда всё-таки чего-то стеснялись. Вовне. Хотя не очень. Не зря же русского царя прозвали «успокоителем революций» и «жандармом Европы». Это почётное звание, похоже, стало наследственным ― и для Советов, и для суверенно-демократической РФ. И даже с большим правом: цари-то за рубежами необъятной всё же как-то сдерживались. Не то что дома.
Как только пришла весть о революции во Франции, царь объявил о необходимости всеми силами противостоять «разрушительному потоку» не только в Европе, но и внутри страны. Буквально в считанные дни расцвело духоскрепие ― тут тебе и русская самобытность, и традиционные ценности, и особый исторический путь, и сакральная духовность. Особо в этом отметились тогдашние сислибы: Тютчев, Жуковский, даже Вяземский. И было с чего. Аккурат в тот же день, когда издан был царский манифест, началось восстание крестьян в Нижнеудинском округе. Начальник московского корпуса жандармов доносил, что «известия о происшествиях во Франции интересуют более или менее всех и служат предметом разговоров, суждений и предположений». Рижский губернатор прислал донос о том, что эти известия «не прошли незамеченными простым народом Балтийских губ. В Риге газеты усердно читаются рабочим классом, и почерпаемые там сведения служат предметом разговоров на рынках». Из Саратова доносили, что между крестьянами распространяются слухи, «будто бы в мае произойдёт восстание».
Дальше ― больше. В Смоленской губернии «смуты и беспорядки на западе в Европе» вызвали у крестьян «ожидание освобождения из крепостного состояния». В сельце Велеможи Тверской губернии крестьяне, «желая быть вольными», заявили тверскому вице-губернатору, «что за помещиком не хотят быть и повиноваться ему не будут, что они дали в том друг другу всем миром заручную и что не отступятся от своей клятвы, хотя бы перенести им за то все наказания телесные и вытерпеть ссылку в Сибирь». В мае начались волнения крестьян Рязанской и Воронежской губерний.
Неспокойны были и фабричные рабочие. В III Отделение был вызван питерский фабрикант Берд, которому предложили обратить внимание «на рабочих, которые, читая газеты, рассуждают о французской революции». Вопрос о «политической опасности» фабричных рабочих обсуждался в Москве. Московский генерал-губернатор предложил «в целях охранения тишины и благоденствия» запретить открытие в Первопрестольной новых фабрик и заводов, расширение существующих ― дабы не увеличивать числа возможных бунтарей.
Дополнительно был издан секретный указ о предоставлении губернаторам чрезвычайных полномочий в случае обнаружения «сверх ожидания нашего» действий, «противных долгу присяги и совести». Отменены увольнения нижних чинов в отпуск.
Кроме того, запрещено было ввозить в Россию иностранные журналы. Оно и понятно ― в это время в Лондоне гремел «Колокол», а в Кёльне «Новая рейнская газета» сообщала о призраке, бродящем по Европе. В отечественных изданиях запретили вообще всё, хотя бы отдалённо напоминающее крамолу. В связи с этим для задушевной беседы в III Отделение был приглашён критик Белинский. А писатель Салтыков-Щедрин и вовсе отправился в вятскую ссылку под тайный надзор.
Одновременно был создан дополнительный цензурный комитет ― в нём заседали цензоры над цензорами. Которые призваны были следить уже не только за печатью, но и вообще за нравственностью населения. У этого комитета тут же возник вопрос, стоит ли доводить до народа всё содержание Священного Писания. А ну как неправильно поймут? Вот Иисус, например, говорил о новом царстве, призывал разрушить храм…
Понятное дело, режим сразу же обратил пристальный взор на подрастающее поколение. Царь лично сочинил и произнёс речь о воспитании. «Прошу вас, родителей, братьев и родственников наблюдать за мыслями и нравственностью молодых людей, ― наставлял он. ― По неопытности они могут быть вовлечены неблагонадёжными людьми к вредным для общества и пагубным для них самих последствиям. Ваш долг, господа, следить за ними».
Университеты, заподозренные в «политической неблагонадежности» тут же подвергли тщательному «очищению» путём уменьшения числа студентов. «В виду смутных происшествий заграницей» и «вредного там направления умов» в Россию запретили въезд иностранным преподавателям и воспитателям. Кроме того, некоторым российским профессорам запретили читать лекции, а от других потребовали их тщательного их урезания ― «в уважение обстоятельств преподавания наук юридических и политических». Всем профессорам и студентам были запрещены поездки «в чужие края».
«Но, впрочем, ― писал самый послушный из лицеистов, а потом из всех российских подданных царя Модинька Корф, ― никто и не думает, при нашей тишине и спокойствии, пускаться в этот мир распущенных страстей и анархии; да и самое появление теперь русского где-нибудь за границею, при воспалении против нас умов, могло бы обратиться в величайшую личную для него опасность, что все очень хорошо понимают». Вот ведь, скоро, как два столетия минет, а как актуально-то!
Тишина, однако, была обманчива. Уже в кружке Михаила Петрашевского читали и обсуждали идеи социалиста Фурье. Уже Николай Чернышевский записал в своём дневнике: «Не люблю этих господ, которые говорят свобода, свобода ― и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законе, а не вводят в жизнь… не уничтожают социального порядка». Уже Михаил Бакунин встретился с Прудоном и написал «Основы новой славянской политики». Уже родился Сергей Нечаев, создавший «Катехезис революционера». Но это так, на заметку…